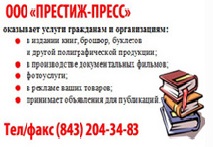Вдали от трассы, более чем в шестидесяти километрах от райцентра Болгар, раскинулось живописное село Кузнечиха. По соседству протекает ворчливая речка со смешным названием Сухая Утка — приток Волги. Местные жители утверждают, что еще не так давно в речке водилось много рыбы, и не было для мальчишек лучшей услады, чем посидеть с удочкой на берегу.
Это старинное русское село иногда сравнивают с сапогом, воткнувшимся с одной стороны в Ульяновскую область (до нее пять километров), с другой — в Алькеевский район. Удивительно красивый, богатый край как в природном, так и в историческом плане. Впрочем, русскими здешние места можно назвать с натяжкой — первое упоминание о Кузнечихе относится к XVIII веку — предполагается, что именно тогда пришлые с нижегородских земель люди и организовали здесь свое поселение. Но прежде тут жил иной народ. И имел древнейший и крупнейший город Волжской Булгарии другое название — Сувар.
Страсти и пристрастия
Когдато, кстати, Кузнечиха имела статус районного центра, который существовал на территории ТАССР с 1935 по 1960 годы. Но c тех пор много воды утекло. Нынешняя жизнь в селе уж давно не бурлит — закрыли участковую больницу, работает лишь амбулатория на 9 стационарных коек, школа из средней превратилась в основную, и учатся в ней всегото тридцать пять детишек. И лишь местный клуб, несколько лет назад получивший прописку в новом отреставрированном здании, продолжает радовать жителей задорными песнями самодеятельных артистов да огнями по вечерам.
Одна из главных достопримечательностей Кузнечихи — расположенное по соседству с селом знаменитое Суварское городище. Собственно, ради него, где вели раскопки казанские ученыеархеологи, както поздней весной я и совершила поездку в Кузнечиху. Прямо на трассе меня встретила в ту пору работавшая учительницей истории и по совместительству директором местного краеведческого музея Неля Садриева со своими учениками.
Всей толпой мы вошли в село — своеобразное, красивое, в зелени деревьев, но, как мне показалось, такое непричесанное, словно ветром взъерошенное, с разбросанными разнокалиберными домишками, в которых каждый хозяин сам себе архитектор. Неля Михайловна между тем взахлеб рассказывала об уникальной Покровской церкви — памятнике второй половины ХIХ века. Местные бабушки, сидя с вязанием на лавочках возле своих резных окошек, приветливо нам улыбались. Гоготали гуси, пощипывая траву, резвились ребятишки, разъезжая на трехколесных велосипедах...
Население Кузнечихи, кстати, испокон веков отличалось трудолюбием, мастеровитостью, способностями к разного рода ремеслам. Взять Бориса Янина, сварщика четвертого разряда. Его дом весь обвит густыми зарослями винограда, который Борис Николаевич сам выращивает и, между прочим, собирает неплохие урожаи. А еще дом Янина примечателен архитектурой — здесь хозяин все сделал своими руками. И мебель в доме тоже необычная — очень стильная, не отличишь от фабричной. Ее Борис Янин тоже сам изготовил. А еще Борис Николаевич (не поверите, но это сущая правда) — шьет, вяжет, выращивает цветы, рисует картины, играет на гитаре. Он умеет практически все…
И вдруг возле старенького покосившегося мостика обозначился в густой траве лежащий человек — еще не старый и вовсе не бомжовской внешности мужчина. Глаза его были закрыты, он бормотал, выкрикивал чтото невнятное. Мужик был, как в народе говорят, пьян в стельку… Неля Михайловна смутилась, ребятишки примолкли, я сделала вид, что ничего не вижу и не слышу.
Позже, беседуя с Нелей Михайловной и другими местными жителями, выяснила, что пьянство заразило не только Кузнечиху, но и другие селения, где спиваются как мужчины, так и женщины. Местная поэтесса Надежда Сарандаева (самая распространенная фамилия в Кузнечихе — Сарандаевы) посвятила проблеме пьянства одно из стихотворений, с горечью назвав водку «своей соперницей». Незамысловатые, простые строки запали в души многих жительниц Кузнечихи, стихотворение пошло по рукам и даже было опубликовано в районной газете.
Бывшая учительница русского языка и литературы пенсионерка Лира Камиловна Питеркина (увы, сейчас уже покойная), к которой мы пришли в гости, напекла вкусных пироговк. Постарушечьи сложив руки на коленях, Лира Камиловна с грустью предупредила, что ее муж как раз накануне загулял, а он когда выпьет — теряет контроль над собой, дебоширит. Потом, правда, ничего не помнит, ходит виноватый. И вообще он мужик неглупый, работящий, в былые времена, до выхода на пенсию, возглавлял местный дом культуры, пользовался большим уважением. Но прошли те времена…
Закатившаяся «Звезда»
В ту поездку в Кузнечиху я познакомилась с Анатолием Сарандаевым, исполнявшим во время моего пребывания в селе роль водителя деревенского такси, то бишь лошадиной упряжки. Трясясь в телеге по деревенской ухабистой дороге вдоль села, я обратила внимание на разбросанные тут и там железяки: колеса, гусеницы, ржавые кузова. Заметив мой недоумевающий взгляд, Анатолий Сарандаев, слегка приструнив лошадь, пояснил, что это кладбище колхозной техники.
Скажу честно, это было очень большое и очень печальное кладбище…
Местные говорят, что когдато колхоз «Звезда» в Кузнечихе гремел по всему Спасскому району, возглавляя список передовых хозяйств. Только когда это было… Современная молодежь лишь посмеивается, не верит, слушая рассказы стариков о былом сиянии «Звезды». Чего только здесь не было — даже инкубатор и кирпичный завод. А сколько кузнечихинских хлеборобов и животноводов в ту пору были удостоены за свой добросовестный труд высоких правительственных наград — орденов и медалей.
В перестроечные и постперестроечные времена вместо колхоза «Звезда» в Кузнечихе работал СХПК «Звезда». Но не долго, эту «Звезду» местные жители с горькой иронией называют закатившейся «звездой». Оставшихся без колхозной «крыши» кузнечихинских работяг позвало в свои ряды фермерское движение: земля есть, за скотиной ходить привыкли — почему бы не попробовать стать предпринимателями. Одной из первых в селе создала фермерское хозяйство семья Ибрагимовых. Причем, руководителем КФХ записали не главу семейства, а супругу Зульфию Сайхутдиновну — она как раз в то время осталась без работы после ликвидации в Кузнечихе участковой больницы. Сам же Радик Равильевич возглавлял администрацию сельского поселения, где и сейчас трудится. Увы, от КФХ Ибрагимовым с недавних пор пришлось отказаться… Зульфия, похоже, решила, что трудиться лучше по призванию, и устроилась на работу в медучреждении, в которое приходится каждое утро ездить за 60 км. Для этого, чтобы ни от кого и ни от чего не зависеть, записалась на курсы и получила права на вождение машины. Так что в хозяйстве Ибрагимовых остались теперь лишь куры да два теленка.
А вот у другого кузнечихинского фермера Михаила Федоренко дела идут вроде неплохо — у него 30 коров, занимается производством молока и мяса. Но больше желания фермерствовать в селе никто не изъявляет: люди предпочитают ЛПХ, считают, что так работать выгоднее. Например, Амина и Махмут Исмагиловы держат 20 коров, а всего в личных подсобных хозяйствах Кузнечихи содержится более 80 буренок.
Сельчане признаются, что без поддержки правительства, без бюджетных дотаций им не выжить. С таким трудом и потом выращенная сельхозпродукция дешевеет не по дням, а по часам, в то время как цены на запчасти, горючее, технику неудержимо летят вверх. Правительство божится, что огромные средства из бюджета идут на сельское хозяйство. Но где они?
— Дело в том, что те средства, которые выделяются государством на сельское предпринимательство, нам, мелким хозяевам, практически не достаются, — признается Зульфия Ибрагимова. — Они оседают, видимо, в крупных карманах. А нам приходится надеяться только на собственные средства и силы. А их не хватает, поэтому многие сдаются, покидают насиженные места. И прежде всего это касается молодежи. Негде у нас руки приложить…
В самом деле, скудеет Кузничиха на людские ресурсы. Если в 90е годы прошлого века здесь проживало свыше шестисот человек, сейчас — четыреста с небольшим. Безработица — главный бич Кузнечихи, а вообще это самая актуальная проблема многих селений, не удивительно, что деревенский люд покидает малую родину. Вот и мой старый знакомый Анатолий Сарандаев перебрался с женой в соседний Ульяновск. В Казани живут две дочери Ибрагимовых, сын обосновался в Подмосковье — в городето легче выжить, работу найти. Ну и так далее. А кто уехать не в состоянии или не к кому — те живут как могут. Естественно, пьют по праздникам и когда оказия случается. Есть продукт, без которого не обходится практически ни одна семья в Кузнечихе, своего рода деревенская валюта — самогонка. Ею расплачиваются за дрова, за лошадь в аренду, за отремонтированный холодильник или починенную крышу, ее ставят на стол, отмечая праздники, и просто так опрокидывают рюмашку другую, когда на душе тошно…
Наши руки не для скуки
Впрочем, сельский народ умеет приспособиться к любым жизненным невзгодам — это всем известно. Вот и жители Кузнечихи, лишившись рабочих мест в бюджетных учреждениях, потеряв веру в фермерство — нашли отдушину в народных промыслах. Альберт Сафеев занялся гончарным ремеслом, да так искусно, что о нем уже весь район знает и спешит к нему за заказами. Семья Горюшкиных сосредоточилась на валяльном деле — причем, не только детские валеночки могут сварганить, но и прелестные уникальные игрушки из войлока. А летом Горюшкины организуют туристические поездки на яхте по волжским водным просторам — желающих, говорят, хоть отбавляй. Семья Джанибековых в долгие зимние вечера корпит над изготовлением кукол из папьемаше, да таких забавных, что глаз не оторвешь. Кстати, Кузнечиха издавна славилась именно народными промыслами, так что история возвращается, подсказывает людям выход из тупика. В конце концов, каждый сам себе выбирает спасательный круг — то ли в загул удариться, то ли делом заняться.
Людмила КАРТАШОВА.
На снимках: артисты Кузнечихинского дома культуры.