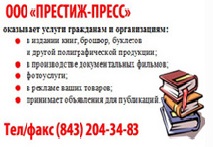Анас Ильмухаметович Баширов — ветеран труда, заслуженный агроном РТ и РФ. Его трудовой стаж — полвека. За его плечами много посевных кампаний. А вот недавно он пришел в редакцию и принес свои путевые заметки. Нам они показались интересными. Судите сами.
Спасибо Лермонтову
Работая главным агрономом ТатНИИСХ — Татарского научноисследовательского института сельского хозяйства, мне приходилось колесить по многим районам нашей республики. Однажды во время командировки в ОПХ «Семеновод» Бугульминского района заболел наш водитель. Сначала ему первую помощь оказали в местном ФАПе, а ночью увезли на «скорой помощи» в Бугульминскую ЦРБ.
Проведя бессонную ночь в сильном беспокойстве за здоровье товарища, я, завершив программу по командировке, приехал в больницу проведать нашего шофера. К моей радости, у него было неплохое самочувствие, и он выразил свою готовность уехать. Я пошел на прием к лечащему врачу с просьбой выписать подопечного. Но тот высказал опасение за здоровье пациента и сказал, что пока не будет результатов всех анализов, он не сможет сказать «да» или «нет».
Я тайком пробрался в аналитическую лабораторию. К сожалению, заведующей лабораторией на месте не оказалось, а лаборантки — молодые, стройные, красивые девчата в белых халатах с отрешенным видом возились со своими колбами. На мою просьбу ускорить выдачу результатов анализа нашего шофера они отказались, ссылаясь на то, что в первую очередь делают анализы тех, кого готовят к операции.
На мои мольбы со ссылкой на то, что испортилась погода, быстро темнеет и наступает ночь, а впереди у нас зимняя дальняя дорога до Казани, а в то время о своевременной очистке дорог и о сервисе на дорогах, как сейчас, только мечтали, девушки никак не отреагировали. Создалась удручающая обстановка, я не знал, что делать, куда деваться.
И вдруг я заметил на стене кемто, зачемто приколотый листок бумаги с репродукцией картины И.И. Шишкина «На севере диком», созданной к одноименному стихотворению М.Ю. Лермонтова. И тут на меня напало озарение! Дело в том, что в стрессовых ситуациях у меня автоматически включается привычка прочитать вслух наизусть выдержки из сур Корана или стихи любимых поэтов типа «Белеет парус одинокий» и т.д. Вот и в этот раз я, позабыв все свои мытарства, уставившись на репродукцию картины, с увлечением громко прочитал наизусть известное стихотворение:
На севере диком стоит одиноко
На горной вершине сосна
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.
И снится ей все, что в пустыне далекой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет…
Закончив читать, я ощутил, как в лаборатории стало тихо. Обернувшись, я увидел чудо: все девушки, забыв про свои колбочки и склянки, зачарованно смотрели на меня и на репродукцию на стене, как будто увидели ее в первый раз. У девчат, которых минуту тому назад были потухшие взоры, безразличие ко всему, радостно засияли лица, загорелись глаза, и они хором попросили еще раз назвать фамилию, имя и отчество моего «больного», взялись быстро завершить анализы, одна из них побежала за завлабораторией. За считанные минуты у меня на руках были результаты всех анализов, подписанные завлабораторией.
Я тепло поблагодарил и распрощался с лаборантками и поспешил к врачу. Результаты оказались неутешительными. Врач сказал, что болезнь серьезная, требуется стационарное лечение не менее двух недель.
Попрощавшись с шофером, я сам за рулем уехал в Казань в хорошем расположении духа. И всю дорогу ехал под впечатлением от той метаморфозы, которая произошла с девушками при чтении мной стихов. Два великих творца — поэт и художник — через годы и расстояния смогли повлиять на разум, психику, изменить настроение, поведение людей. Какую гениальную силу воздействия на наше сознание имеют литература, искусство, и каким великим наследием мы владеем!
Вспоминая этот краткий яркий эпизод, я сожалею о том, что не спросил, кто из этих девушек оказалась неравнодушной к картине и стихотворению «На севере диком». А вдруг ктото из них прочитает эту зарисовку в газете, тогда наверняка им тоже вспомнится тот день, и мне сообщат имя той девушки — фанатки двух гениев.
Репку посеяли или как я служил «следоуказателем»
Это было 13 июля 1949 года, на другой день после «Петрова дня» — самого большого крестопрестольного праздника в нашей деревне.
Я со своим другом Магнави под вечер стоял около кузницы, и мы с увлечением лицезрели, как кузнец Григорий агай Карпов ловко орудует около горна и наковальни. К нам подошел Герасим агай Кузьмин — фронтовик, который в послевоенные годы долго работал бригадиром колхоза. Он, посмотрев на нас обоих, подозвал меня и велел немедленно идти в конюшню, найти Кыям абыя, сесть с ним на его телегу и ехать в ночь на «Кушлык баеуы» — так называлось одно из полей — посеять репку. Я уже «взрослый»: окончил первый класс, мне шел девятый год, и я уже подпадал в список резерва бригадира. А Магнави был на год моложе меня.
Хотя задание «сеять репку» огорошило меня новизной, я принял указ к исполнению с какойто внутренней радостью, так как считал, что дед, посеявший репку, был самым мудрым сказочным героем, которых я уже знал.
Мать с радостью согласилась с моим назначением, сказав, что наступила пора посева репки, да она и сама в этот вечер собиралась втыкать семена репки на огороде вдоль грядок и в рядки посадок лука. Тогда каждый клочок земли на огородах использовали под картофель, лук, морковь, свеклу. А отдельный участок под репку, как «второстепенную» культуру, не отводили. Тем более, что она, подсеянная на участок к луку, который рано убирается, спокойно растет при влажной, прохладной погоде до «Покрова дня» (14 октября), а в иной год и допоздна.
Моя мать хорошо разбиралась в календаре, приурочивая посадки к памятным дням. Она прекрасно знала, что весенний посев репы уничтожается крестоцветными блошками, а после «Петрова дня» блохи исчезают и не вредят репке. Мать так же рассказала, что «Петров день» — перелом в жизни всего живого: после этого дня ни одно растение не зацветает, певчие птицы перестают петь, комнатные мухи, чувствуя приближение осени и неизбежный конец их вольной жизни, «обозляются», делаются кусачими.
Когда я прибежал к конному двору, там уже были готовы 2 подводы под управлением Кыям абыя Шарипова и Фарит абыя Сайфуллина, а также команда севцов. Все они имели за плечами довольно емкие кузовки из луба липы.
Загрузившись в амбаре колхоза мешком семян репы и мешками сухой, просеянной золы, преодолев расстояние 4 — 5 км до подготовленного, выровненного, без сорняков, поля, мы подъехали туда уже в сумерках. Зажгли костер, приготовили сухие ветки на всю ночь из леса «Кушлык урманы». Погода была ясная и прохладная. Старшие меня, как «мальца», хотели уложить спать на телеге, но я примостился со всеми около костра, так как из сказок уже знал, что все храбрые положительные герои переночевали на сырой земле. Прислушиваясь к разговорам много видавших, много переживших аксакалов — членов посевной команды, я вглядывался в небо, где мерцали миллиарды звезд. Они казались в одно мгновение то очень далекими, то, в следующий момент, близкими, хоть рукой доставай. В эту ночь я както поособенному ощутил себя частицей этого огромного мира. А осознав это, почувствовал, что «повзрослел». Это новое чувство придало мне как будто силу, уверенность, настолько, что я в течение всей своей жизни осознавал и ощущал значимость этой ночи. Тогда я впервые приобщился к солидному рабочему коллективу, и был очень рад и горд за себя. Хотя всю ночь мучился, терзался, не зная, какая будет моя задача в этой компании. А Герасим агай не объяснил, отрезав: «Узнаешь на месте».
Чуть свет мы на полог из мешковины высыпали золы, тщательно перемешав ее с семенами репы. Все поле к утру было покрыто обильной росой, серебрилось. Почва была увлажнена. Аксакалы в такую погоду и обильную росу пророчили большой урожай репы.
Утренняя свежесть воздуха, обилие «серебра» на почве и прелесть ранней зари заполнили меня огромной радостью, чувством легкости во всем теле, причем настолько, что любовь к утренней заре у меня сохранилась на всю жизнь, а рано вставать и бодро идти на работу вошла в привычку. Да иначе и быть не могло, ведь после десятилетки до армии я работал три года бригадиром колхоза, а после института уже 47 лет работаю агрономом. Огромную духовную поддержку в сохранении такой привычки мне оказал маленький стишок, прочитанный мной на численнике. К сожалению, не запомнил автора:
Мелкие росинки на заре
Всю землю держат в серебре.
Внезапно отблеск золотой
Пробежал над серебряной землей.
Ты в этот час выходи и собери
Серебро да золото зари.
Утром, быстренько почаевничав — у каждого из нас в заначке были бутылки с чаем и молоком, приступили к севу репки. Встав в ряд, сохраняя друг от друга расстояние в два взмаха — направо и налево, сеяльщики пошли друг за другом, сохраняя дистанцию. А меня поставили наследить границу посеянного участка. После разворота на другом конце загона я обратно снова шел по своему следу, а следующий севец держал уже дистанцию, ориентируясь на меня.
Тем временем наши возчики Киям абый и Фарит абый спилили по две пары густо ветвистых елочек высотой 22,5 м. Такие елки у нас назывались помелками. Их верхние концы стыковались и крепились попарно, и получались широкозахватные агрегаты 3 — 3,5 метра шириной. Прицепив этот агрегат с помелками через постромки к хомуту, посеянное поле помели. Посеянные семена хорошо обволакивались мокрыми от росы почвенными частицами и прекрасно заделывались в почву. В предволжских селах и сейчас бороны называют «себерке» — помела.
Я со всей серьезностью относился к исполнению своей функции следоуказателя, стараясь идти ровно, без зигзагов. Это было важно и тогда, и важно теперь. До появления космических навигаторов — GPS — все посевные агрегаты укомплектовывались, а многие укомплектовываются и в настоящее время маркерами и следоуказателями. Мне, как агроному, часто приходилось рассчитывать и проверять вылет маркера, длину следоуказателей, и каждый раз я с теплотой в душе вспоминал свое первое участие в посевной в качестве «следоуказателя».
В тот год в колхозе был собран невиданный урожай репы, которую на трудодни раздали колхозникам — по возку и более. Исходя из цели както помочь людям в условиях, когда хлебозаготовки были на строгом контроле райкома, а более одного килограмма зерна на трудодень выдавать сельчанам не было права, наш председатель, Герой Советского Союза Петр Егорович Воробьев сеял вне плана репу и раздавал колхозникам. Это был для сельчан хороший довесок и подспорье. Мы с матерью, например, свою долю — целый воз репки — распродали на рынке поселка Кукмор.
В настоящее время, основываясь на данных археологических раскопок, историки установили, что репка являлась одним из первых культурных растений, возделывавшихся нашими древними предками, и служила людям в течение долгих тысячелетий основной продовольственной культурой.
Репка привлекательна не притязательностью к условиям вегетации, климату, имеет хорошую лежкость. И сегодня по содержанию комплекса полезных веществ намного превышает заморские фрукты, такие, как бананы, апельсины, мандарины, и не уступает им по вкусовым качествам. Я и теперь на своем огороде сажаю репку, и каждый раз вспоминаю свою первую посевную.
Анас Баширов.